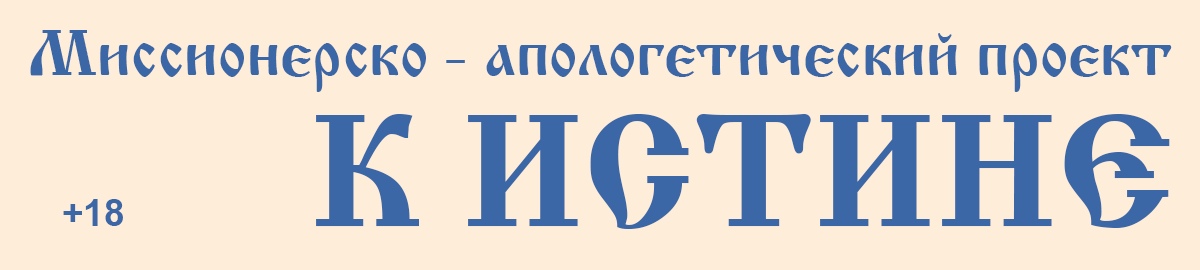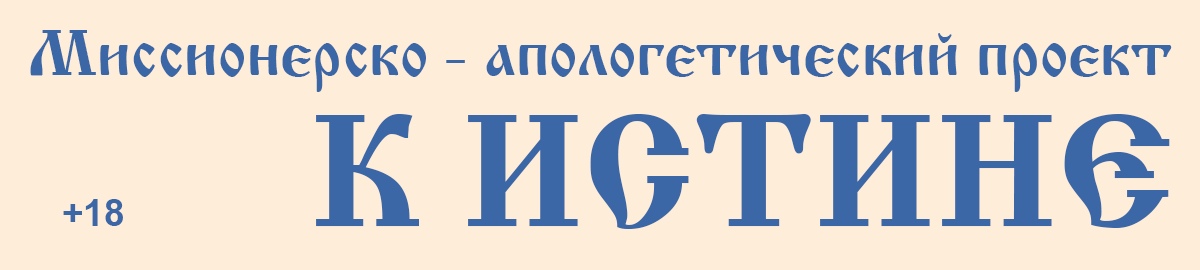Благочестивое расчленение: парадокс
почитания мощей в византийской агиографии
Мощи святых довольно быстра начали разрознять. Уже с V в. получают распространение
амулеты с частицами мощей. По подсчетам одного
исследователя, из 475 святых, от которых остались
реликвии, "в теле" лежат лишь 27, а из святых,
живших с VII по XV в., таковых лишь трое! Наконец,
некоторые святые разделены на большее число частей, чем
костей в человеческом скелете: Параскева – на 152,
Пантелеймон – на 175, абсолютный чемпион Харалампий – на
226!

Православная "святая" расчлененка
возникла, не вчера, не позавчера и даже не сто лет
назад...
***
Христианство превращало смерть из
постыдной тайны – в праздник.
Покойника христиане хоронили в городской
черте, а не за городом, как язычники. Юлиан Отступник
говорил, что христиане весь мир заполонили мертвецами –
у них, по его словам, болезненное пристрастие к могилам
[289]. Этот император запретил погребальные процессии
через город и похороны в дневное время. Следует
заметить, что радостное отношение к смерти сочеталось у
ранних христиан с равнодушием к мертвому телу – оно
воспринималось как атрибут того дольнего мира, который и
без этого был обречен. Однако постепенное "остывание"
эсхатологических чаяний вызывало соответственный рост
интереса к реликвиям. Параллельно светское
законодательство христианских императоров дозволяло все
более и более тесный контакт почитателей с могилами
праведников. Если Феодосий I разрешил погребать в
городской черте, но лишь под землей, то уже Юстиниан в
своих Новеллах идет дальше: святых можно хоронить над
земной поверхностью, в церквах. Окончательно закрепляет
захоронение над землей лишь Лев VI в своей новелле 53
[290].
Следующим шагом на пути вовлечения
останков в культовый и, шире, культурный оборот стала
практика перезахоронений [291]. Уже в 351 г. из Антиохии
в Дафну было перенесено тело св. Вавилы
[292]. Первоначально отцы церкви выступали против данной
практики. Так, Григорий Нисский заявляет: "Раскапывать
прах от разложившегося тела и передвигать кости – это
преступление, которое должно осуждаться столь же сурово,
как и чистый блуд" [293]. С ним согласен и Иоанн
Златоуст: "Что может быть нечестивее, чем приказ:
вырывайте кости, переносите трупы! Эти чуждые правила
вводит демон гробокопательства!.. Слыханное ли дело –
перетаскивать мертвых? Виданное ли – переносить тела?"
[294].
Светское законодательство тем более
запрещало перенос мощей: "Пусть никакое человеческое
тело не будет перенесено в другое место без
императорского повеления" [295], – недвусмысленно
повелевают "Василики". Но по вопросу о том, как следует
применять данное положение, среди юристов единства не
было. Это можно заключить из неуверенного комментария
Феодора Вальсамона (XII в.) на Номоканон Фотия: "Следует
отметить, что под закон о разорении могил подпадают те,
кто переносит останки (μετακινοῦντες λείψανα)... без
императорского или епископского повеления или без
начальственного решения. Впрочем, и начальники без
разумной причины (χωρὶς εὐλόγου αἰτίας) не могут
разрешать подобный перенос... Те, которые утверждают,
будто любой может это делать без предварительного
разрешения (ἀποκριματίστως), лишь бы он при этом не
руководствовался целями грязной наживы, на мой взгляд,
говорят неправильно. Потому-то некий игумен честного
монастыря св. Мокия, который перенес реликвии без такого
разрешения, был синодом низложен с игуменства" [296]. Из
цитированного текста ясно, что высказанную Вальсамоном
точку зрения разделяли далеко не все законники.
До сих пор мы говорили лишь о
перезахоронении, однако уже с очень раннего времени
появляются факты разрознения мощей. "Пусть никто не
растаскивает (distmhat) мучеников, пусть никто не
продает", – предостерегает закон 381 г. [297]. В
действительности запрет на продажу мощей действовал не
очень строго [298], однако нам сейчас интересен именно
вопрос о "растаскивании" святых. Может ли оно повредить
им? На этот счет бытовали разные мнения.
Так, автор
рассказа об обретении головы Иоанна Предтечи иронически
отзывается об Иродиаде, которая не хотела воссоединения
отрубленной головы Крестителя с телом из опасения, что
так Иоанну легче будет воскреснуть [299], – но в то же
время св. Епифаний Кипрский, убеждая персидского царя
отказаться от обычая оставлять мертвые тела на
растерзание псам, с полной серьезностью объясняет, что
это затруднит Господу воскрешение мертвых для Страшного
Суда [300].
Тем не менее, факт остается фактом: мощи разрознялись. Уже с V в. получают распространение
амулеты с частицами мощей [301]. По подсчетам одного
исследователя, из 475 святых, от которых остались
реликвии, "в теле" лежат лишь 27 [302], а из святых,
живших с VII по XV в., таковых лишь трое! Наконец,
некоторые святые разделены на большее число частей, чем
костей в человеческом скелете: Параскева – на 152,
Пантелеймон – на 175, абсолютный чемпион Харалампий – на
226 [303]!
Под эту установившуюся практику
византийцы старались подвести теологическую базу. Вот
что пишет в V в. Феодорит Киррский: "Тела святых не
скрывает могила, но их делят между собой города и
деревни, и называют их спасителями душ и врачевателями
тел, их почитают, как стражей и хранителей городов... и
притом что тело бывает разделено, благодать остается
неделимой. Даже самомалейший и ничтожнейший [кусочек]
мощей имеет такую же силу, как и сам мученик, который ни
в коем случае не расчленяется. Процветающая благодать
распределяет дары, умеряя любочестие в соответствии со
степенью веры прибегающих [к помощи]" [304]. В Х в.
Феодор Дафнопат в речи на перенесение в Константинополь
руки Иоанна Предтечи заявляет: "Если даже десница
[Предтечи] и отсоединена от остального тела, она никоим
образом не обделена Божьей благодатью. Ведь мы верим в
то, что благодать святых не пропорциональна и не делится
в зависимости от расчленений тела (μερισμοῖς σωμάτων),
но [считаем, что] в каждую часть и частичку их пречистых
тел энергия Духа входит и пребывает в них во всей
полноте, без всякого ущерба и уменьшения" [305].
Разделение мощей некоторым образом даже
предписывалось канонически: Седьмое правило Второго
Никейского Собора (787 г.) повелевает, чтобы в каждой
церкви имелись мощи святых мучеников [306].
К более позднему, но, несомненно,
византийскому времени относится и традиция зашивать
частицы мощей в антиминсы. Коль скоро храмов было много
больше, чем святых, то разрознение последних
воспринималось Церковью как нечто само собою
разумеющееся (отсюда и все возрастающее дробление
праведников, живших после VII в.!).
Заметим при этом, что закон о
τομβορυχία, разорении могил, никем не отменялся, так что
любой благочестивый ктитор рисковал ни много ни мало
быть сожженным заживо! Несмотря на рутинность практики
разделения мощей, она все же не воспринималась вовсе
нейтрально. Свидетельством этого является уже
цитированная речь Дафнопата. В ней пересказана следующая
легенда: в окрестностях Антиохии жил дракон, которому
ежегодно полагалось приносить в жертву по одной девушке.
Когда в очередной раз жребий выпал на христианку, ее
отец отправился в церковь, где хранилась десница
Предтечи, еще раньше отрубленная от остального тела
евангелистом Лукой. "Склонившись над гробом и всем телом
нависнув над ним, он, побуждаемый божественной любовью,
в момент целования откусил зубами (τοῖς ὀδοῦσιν
ἀποτεμὼν) большой палец этой десницы и, спрятав [во
рту], как можно скорее выбежал из храма" [307]. Дальше в
легенде говорится, что откушенный палец убил дракона и
впоследствии почитался в особом храме.
Перед нами – очень распространенный с IX
в. на средневековом Западе [308]и весьма редкий в
Византии мотив furtum sacrum – "священного воровства",
благоговейной кражи реликвии, не воспринимаемой как
преступление. Дафнопат приводит этот рассказ, чтобы
объяснить, почему у десницы Крестителя, принесенной в
Константинополь, отсутствует большой палец. Однако сам
оратор, столичный интеллектуал, испытывает некоторое
смущение, причем вызвано оно, как представляется, не
только сомнениями в подлинности рассказа, но и той
диковатой, веселой и разнузданной энергией, которой
напоена народная легенда. Почитание мощей – ритуал
чинный и торжественный. Furtum sacrum взрывает эту
чинность, допускает земные страсти в сферу вечного
умиротворения.
Если разрознение мощей было отчасти
санкционировано самой Церковью, то этого совершенно
нельзя сказать о растерзании еще не остывших трупов.
Такую практику мы будем называть благочестивым
расчленением [309].
***
Первые свидетельства о покушениях
благоговейной толпы разорвать на реликвии труп только
что умершего праведника относятся уже к пятому веку, то
есть к той эпохе, когда растерзание христианских
мучеников языческими гонителями еще не было далеким
прошлым.
Похороны Авраамия, епископа Каррийского
(ум. в I пол. V в.), описаны Феодоритом так: "Сбежались
горожане, сбежались чужеземцы и все крестьяне. Соседи
теснились, чтобы сподобиться благословения. У одра
стояли многочисленные ликторы, угрозами побоев
распугивая тех, кто пытался сорвать с трупа одежды и
унести их" [310].
Еще одно свидетельство V в. – это житие
св. Ипатия (ум. в 446 г.): "Толпа начала терзать
(διεσπάραττον) похоронное ложе, желая взять частицы его
одежды себе на благословение. Один разрезал ножом саван,
другой [хватал] плащ, третий [вырывал] волосы из его
бороды. Нам, – говорит автор жития Каллиник, – с трудом
удалось прекратить это, в то время как многие изо всех
сил нам препятствовали" [311]. А вот житие Даниила
Столпника (ум. в 493 г.): "Народ потребовал, чтобы ему
перед похоронами показали преподобного, и от этого
получилось немалое смятение... Архиепископ Евфимий,
опасаясь, как бы [тело] не было растерзано толпой,
распорядился положить его в свинцовый гроб... Когда
толпа сгрудилась перед входом [в церковь] под предлогом
ходатайствования о благословении, деревянные балки
[помоста], не выдержав напора, отъединились друг от
друга – и все те, кто держал гроб, рухнули на землю
вместе с останками. Впрочем, гробоносцы, по Божьей
милости, не претерпели никакого ущерба, но удивительным
образом сдержали натиск напиравшей толпы, так что из
столь неисчислимого множества мужчин, женщин и детей
никто не претерпел никакого вреда" [312].
В следующем, VI в., все продолжается так
же. В житии Феодосия Киновиарха (ум. в 529 г.) читаем:
"И монахи, и простые люди старались подойти и
прикоснуться к какой-либо части тела или к святым его
волосам, или к священной его одежде... И шла борьба
между людьми, и долго не разрешали похоронить останки"
[313]. А вот что мы узнаем о похоронах
константинопольского патриарха Евтихия в 582 г.: "Каждый
хотел либо взяться за саван, либо дотронуться до
священного одра... Все площади и портики в два и три
слоя были полны народу, люди бежали и рядом с гробом, и
впереди, и сзади, десятки тысяч людей напирали друг на
друга... Сам император хотел прибыть, но остерегся
людского столпотворения. ... Наши люди сражались с
[напиравшими] извне, те с нами... Тело принесли в храм
Св. Апостолов, причем оно едва избежало растерзания
(μόγις δὲ τὸ σῶμα διαφυγὼν τοὺς ἁρπάζοντας) [314].
Угрожающие события происходили и во время похорон св.
Алипия Столпника (I пол. VII в.), когда "городские
женщины насилу дозволили унести тело" [315].
Следующий затем перерыв в свидетельствах
вызван, как представляется, не столько тем, что
иконоборцы осуждали поклонение мощам (и презирали
"костепоклонников" – ὀστεολάτραι) [316], сколько
осложнениями в функционировании самой агиографии как
жанра. Что касается житий иконопочитателей, то в них
расчленение святого вновь превращается из формы
поклонения – в вид расправы. Например, иконоборцами было
растерзано тело иконопочитателя Стефана Нового
[317].
***
Читайте также по теме:
***
Однако позднее попытки благочестивых
расчленений возобновляются. Никита Пафлагон так
описывает похороны патриарха Игнатия в 877 г.:
"Настолько свят он был для паствы, что даже те скамьи,
которые были поставлены возле одра, на коем он лежал,
были разобраны, словно мощи. И покрывало, возлежавшее на
нем, было разодрано на десятки тысяч частиц и роздано
верующим как священный дар. Да и само тело едва было
избавлено от тех, кто его хватал (μόγις οὗν τότε τὸ σῶμα
τοὺς κρατούντας διαφυγόν), и перенесено в храм
великомученика Мины"[318].
Столь же энергично прошли и похороны св.
Феоклеты Чудотворицы (IX в.): "Сбегались на погребение
люди всех возрастов и сословий и профессий. Не отставал
ни раб, ни господин, и начальник бежал рядом с частным
человеком. Девица, долгое время сидевшая взаперти и
уклонявшаяся от мужских взглядов, решалась выйти и
ненадолго откладывала стыд – ведь она знала, что
наказание за то, что она на короткое время покажется,
будет перевешиваться той пользой, которую она получит,
если ей удастся сподобиться прикосновения к святому
телу. Все улицы и переулки были запружены толпой,
желавшей не только подойти и потрогать священное тело,
но считавшей благословением даже просто увидеть эту
ангельскую седину" [319].
В середине X в. такого же почитания
удостаивается тело св. Василия Нового: "Можно было
видеть, как толпы верующих стадами, а точнее сказать –
рекой стекались, чтобы получить освящение путем
божественного прикосновения и лицезрения [Василия].
Некоторые выдирали волосы из накрывавших его честных
козлиных шкур и получали от этого великое благословение.
Другие считали величайшим освящением для себя просто
видеть и лобызать [Василия]. А уж если кому-нибудь
удавалось улучить благословение, проистекавшее от
священного прикосновения к чему-нибудь из его одежд, или
[урвать] волос, то такой считался счастливейшим среди
всех людей у тех, кто хорошо знал деяния Василия; такого
воспринимали воистину блаженнейшим, и все говорили о нем
как о сподобившемся чуда" [320].
В житии св. Нифонта Константианского
(конец X в.) сказано: "Когда толпа пыталась растерзать
надетые на него одежды, патриарх не разрешил" [321].
Подобный же рассказ есть и в житии Никона Метаноите (XI
в.): "Весь народ Лакедемона... узнав о кончине святого,
преисполнился божественного рвения и сбежался со всех
сторон с чрезвычайной горячностью, дабы сподобиться
благословения от святого, наподобие того, как рой пчел
слетается на мед... Можно было видеть, как толпа
теснится на улицах и переулках... Стекаясь таким
образом, они стремились продемонстрировать горячность и
пламенность своей веры, и отваживались совершать нечто
глуповатое и грубое (παχύτερον τι δρᾶσαι καὶ ἀγροικὸν
παρωρμήθησαν). Один спешил оторвать пучок грязных волос
с головы блаженного, другой – клок из его бороды, третий
– кусок его старого плаща и капюшона" [322].
Как можно заметить, все эти описания,
хотя и чреваты растерзанием, однако не идут дальше
вырывания волос. Власти обычно вмешиваются и
предотвращают самые жуткие эксцессы. Обычно – но не
всегда. Обратимся к житию св. Евстратия Авгарского,
написанному во второй половине IX в.: "Тотчас собралась
константинопольская толпа. Одни спешили утащить
что-нибудь из его одежд, другие – из волос, или получить
себе для оберега какой-нибудь из членов его
многострадального тела (τινος τῶν ἐκ τοῦ πολυάθλου αὐτοῦ
σώματος μελῶν εἰς φιλακτήριον ἆραι ἠπείγοντο). Одна
женщина... приложила к больному бедру пучок волос из его
бороды [и излечилась]" [323]. А уж когда мертвое тело
праведника оказывается в полном распоряжении
почитателей, расчленение неминуемо. Вот как буднично
описывает растерзание еще не разложившегося тела житие
св. Лазаря Галесиота: "Мощи разделили между собой
богобоязненные люди, одним досталось одно, другим другое
(τὰ δὲ λείψανα... τινες τῶν φιλοχρίστων ἂλλος ἂλλο
διεμερίσαντο). Осталась одна только святая его голова,
которая и содержится до сих пор в ковчеге при храме
Спаса" [324].
Разумеется, в таком тоталитарном
государстве, как Византия, властям ничего не стоило бы
предотвращать расчленения святых: публичные – военной
силой, тайные – усилиями сыска. Если власть допускала
подобное, значит, она считала это извинительным.
***
Святой тяготится своей земной жизнью и
радуется грядущей кончине. День его смерти церковь
празднует как "день небесного рождения". Божий угодник
воспринимается не столько как человек, сколько – как
преодоление человеческого. Если бренные останки обычных
людей ассоциируются с ритуальной нечистотой и физическим
зловонием, то праведнические – с благоуханием и
мироточивостью. Но коль скоро они суть вместилище
сверхъестественных энергий, то не может быть никаких
возражений и против сколь угодно дробного
фрагментирования хоть костей, хоть неостывшего трупа. И
тем не менее ситуация была куда более противоречивой.
Приведем примеры.
Весьма часто святой отказывается
чудотворить, пока интегральность его мощей не будет
восстановлена: так, мученик Лонгин, явившись во сне
своей почитательнице, велел ей выкупить его отрубленную
голову и присоединить ее к телу. Женщина действительно
выкупает голову за 200 денариев и водружает ее к
туловищу, за что святой ее во сне же благодарит [325]. В
сказании о 42 Аморийских мучениках сказано, что когда им
отрубили головы и сбросили все тела в реку Тигр, то
последняя "заботилась, чтобы тела не растащило
(ἀδιασπάστως)" [326]и "присоединила к каждому телу его
собственную голову" [327].
Св. Максим Кавсокаливит
специально велит перед смертью, "чтобы его мощи никогда
не переносили на другое место... и чтобы ни одна
частичка мощей никогда не отсоединялась, но чтобы тело
оставалось целым" [328]. Воплощением этого
противоположного подхода является и концепция нетления
мощей, которая нами здесь не рассматривается [329].
Вот как выглядит рассказ о смерти
героини в Житии Феоктисты Лесбосской (нач. X в.):
охотник с острова Эвбея, который некогда и обнаружил
святую отшельницу во время охоты на острове Парос, в
очередной свой приезд нашел ее мертвой. По словам автора
жития, охотник рассказал, что ему "следовало бы
похоронить тело блаженной и спеть над нею погребальную
песнь. Но нелегко достичь разума! И я не сумел сделать
того, что было бы правильным и верным. Из-за своей
дикости и простоватости я совершил отчаянный поступок;
пусть я действовал, как мне казалось, по вере – однако
скорее всего это не было угодно Богу. Впрочем, будучи
охотником и человеком невежественным, что еще мог бы я
придумать? Я отрубил ей руку, завернул [обрубок] в
льняную тряпку и вернулся на корабль" [330]. Дальше
охотник рассказал, что невидимая сила не выпускала
корабль из гавани, – и тогда он решил, что причина этого
кроется в его поступке. "Я побежал в церковь, положил
руку возле тела святой и вернулся на корабль" [331].
Современный комментатор жития Angela Hero считает, будто
преступление охотника состояло в том, что "он пренебрег
обязанностью совершить над телом христианский
погребальный обряд" [332], – однако с этим нельзя
согласиться: из дальнейшего рассказа следует, что после
того как охотник вернул руку на место, корабль получил
возможность спокойно уплыть. Святая больше не чинила
препятствий, хотя погребения охотник так и не совершил.
Значит, его ошибкой было именно расчленение! Но в то же
время поступок охотника, да и поступки других
расчленителей трупов, никогда не воспринимаются
агиографами как надругательство, но лишь как ἀγροικία –
неотесанность, простоватость, рвение не по уму, то есть
нечто, в целом извинительное.
Между иконами и мощами – много общего,
недаром частицы мощей помещались иногда в оклады икон.
Оба класса объектов суть земные напоминания о неземном,
иногда воспринимаемые почитателями как реальные частицы
надмирной энергии. Антиномичность обоих этих классов
объектов очевидна, однако если богословие иконы было
развито в Византии до чрезвычайных тонкостей, то
богословия мощей там не было почти совсем.
Может быть,
причина такого сильного различия кроется в том, что
почитание мощей едва ли не на полтора века старше
почитания икон. Оно сложилось как низовая практика уже в
начале IV в., когда церковь еще не выработала и не
сформулировала эксплицитно своих основных теологических
постулатов. Почитание икон, достигшее расцвета лишь к VI
в., могло подвергаться более тщательной богословской
рефлексии, тогда как поклонение мощам воспринималось как
нечто априорное. Так или иначе, но в вопросе о
допустимости расчленения, как и по некоторым другим
важным вопросам о мощах [333], византийская церковь не
выражала своего нормативного мнения, и это открывало
свободу для маневра.
Тело праведника – такая точка
культурного пространства, на которой сходятся все
взаимоисключающие аксиомы религиозного сознания.
Противоречие первое: с одной стороны, праведнику воздают
почести за его прижизненную "бестелесность", отвержение
законов земного бытия, – но с другой стороны, в самой
своей смерти святой как раз и становится "телом" (если
оно не исчезает, что в агиографии также случается)
[334].
Противоречие второе: христианский подвижник при
жизни есть цельная личность, – но после смерти его можно
воспринимать как сгусток надмирной энергии, вся полнота
которой целиком содержится в любом сколь угодно малом
куске этой особого вида материи.
Противоречие третье:
жизнь "трудника Господня" – это всегда некое выламывание
из рутины, некое нарушение привычного хода вещей, –
однако святого после его смерти присваивала себе
Церковь, институт, по определению, охранительный и
рутинизирующий.
Наконец, противоречие четвертое: цель
святого – "подражание Христу"; но раз "Тело Христово"
регулярно подвергается разделению и раздаче в обряде
евхаристии, то, может быть, и тело праведника достойно
такого же обращения?
Например, Житие Нифонта, который
сам после смерти чуть не подвергся расчленению, содержит
эпизод, когда святого во время евхаристии посещает
весьма натуралистическое видение Агнца-Младенца,
разрезаемого ножом на дискосе.
Принципиальный вопрос состоял в том, кто
именно является распорядителем благодати: Церковь как
институт или Церковь как совокупность верующих. Дикая
вакханалия расчленения была для толпы единственным
способом сохранить святого в качестве личностного
заступника, оно являлось уникальным шансом приобщиться к
внеинституциональной святости. Со своей стороны,
церковники, защищая тело от растерзания, частично
обезличивали праведника, присоединяя его к бесчисленному
"сонму" других святых. Для отдельного почитателя
подвижник мог сохраниться лишь в качестве оторванной в
драке реликвии, далекого предка нынешних сувениров, –
для церкви он продолжал свое существование как местный
герой, по-человечески небезразличный к судьбе
собственных мощей и подчас заботящийся о них из-за гроба
[335]. Обе стороны этого перманентного конфликта
молчаливо признавали правоту друг друга, и в этом
механизме глубинной терпимости – важный секрет Византии,
которая поверхностно выглядела столь нетерпимой.
Сергей Иванов
Цитировано по: А.М. Лидов. Восточнохристианские
реликвии. Сборник.- М.: Прогресс-Тралдция, 2003.- С.
656с.
Азбука веры
Об авторе. Сергей Аркадьевич
Иванов (род. 5 октября 1956, Москва) - советский и
российский историк-византинист, специалист в области
истории средневековой культуры. Доктор исторических
наук, профессор, профессор Высшей школы экономики и
СПбГУ. Член-корреспондент Британской академии. Лауреат
премии "Просветитель" (2010), получивший её за книгу
"1000 лет озарений".
Использованная литература
289. Juliani. Contra
Christianos, 225.
290. DogronG. LeRomanité
chretienneen Orient. Héritages et mutations. L., 1984,
IX, p. 12–16.
291. Heinzelmann M. Translatio
// Lexikondes Mittelalters. 1996. Bd. 8, fasc. 5, col.
947–949.
292. Mango C. Constantin’s
Mausoleum and the Translation of Relics // Byzantinische
Zeitschrift. 83 (1990), p. 51–52.
293. Gregorii Nysseni. Epistola
Canonica // Patrologiae cursus completus. Series Graeca
(далее – PG), 45 (1858), col. 233.
294. Joannis Chrysostomi. Liber in s. Babylam // PG 50 (1859), col. 531.
295. Basilcorum 59, 3, 9. Cf. Ecloga 37, 19b; Jus Graeco-Romanum, 4,148;
Nomocanon Photii 8, 27
296. Σύνταγμα
τῶν θείων και ἱερῶν κανόνων. Γ.
Α. Ῥαλλη,
Μ. Πότλη.
Αθῆναι, 1852. Т.
4, σ. 209.
297. Herrmann-Mscard
N. Les reliques des saints. Paris, 1975, p. 31. Cf.: Engemann
J. Reliquiengrab // Lexikon des Mittelalters. 1994. Bd.
7, fasc. 4, col. 704.
298. Cp.: Petrakakos
Dem. A. Die Toten im Recht nach der Lehre und den Normen
des orthodoxen morgenländischen Kirchenrechts. Leipzig,
1905, S. 227, 239.
299. Acta Sanctorum (далее
– AASS) Junii, vol. 5. Bruxelles, 1866, p. 616.
300. Cp.Vita s.
Epiphanii // PG 41 (1858), col. 41.
301. Majeska
G. Reliquien. II. Byzanz// Lexikon des Mittelalters.
1994. Bd. 7, fasc. 4, col. 704.
302. Meinardus
О. A Study of the Relics of Saints of
the Greek Orthodox Church // Oriens Christianus.
54 (1970), p. 132.
303. Св. Харалампий просил Бога, чтобы
там, где будут лежать его мощи, не случалось никаких
несчастий (AASS Februarii, II (1864), р. 386), но
конкретная его специализация состояла в лечении
домашнего скота – отсюда, видимо, и популярность.
304. Theodoreti
Episcopi Cyrrensis. De martyribus // PG 83 (1860), col. 1012B-C.
305. Латышев В. В. Две речи Феодора
Дафнопата // Православный палестинский сборник.
1910. Т. 59, с. 33.
306. Mansi J.В. Sacrorum conciliorum nova et amplissima collectio, vol. XIII. Leipzig, 1902, col. 427C.
307. Латышев. Две речи... с. 26.
308. Geary Р.
J. Furta sacra. Thefts of Relics in the Central Middle
Ages. Princeton, 1978. Западная традиция
обращения с мощами исследована в работах: Hermann-Mascard
N. Les reliques des saints. Formation
coutumière. P., 1975; McCulloh J. M. The Cult of Relics
in the Letters and "Dialogues" of Pope Gregory the
Great// Tradition. 32 (1976); Idem, From Antiquity to
the Middle Ages: Continuity and Change in Papal Relics
Policy from the 6th to the 8th Century// Pietas.
Festschrift für B. Kötting / Hrsg. E. Dassmann, K. S.
Frank (= Jahrbuch für Antike und Christentum,
Ergänzungsband 8:1980); Heinzelmann M. Translationsberichte
und andere Quellen. Tumhout, 1979; Dinzelbacher P. Die "Realpräsenz"
der Heiligen // Heiligenverehrung in Geschichte und
Gegenwart/ Hrsg. P. Dinzelbacher. Setfildem, 1990.
309. Данная тема затрагивается, хотя и далеко не исчерпывающим образом, в работах: Abrahamse D. Rituals of Death in the Middle Byzantine Period I
j Greek Orthodox Theological Review, 1984. Vol. 29, № 2,
p. 130; Kaplan M. De la depouille à la relique:
formation du cube des saints à Byzance du Ve au Xlle
siècle // Les reliques. Objets, cubes, symboles. Actes
du colloque international de l’Universitè du
Littoral-Côte d’Opale (Boulogne-sur- mer). 4–6 Sept.
1997 /ed. P. E. Bozoky, A.-M. Helvetius. Tumhout, 1999,
p. 19–20.
310. Theodoreti Cyrrensis. Historia Religiosa// PG 82 (1859), col. 1425.
311. Vie d’Hypatie. Sources
Chretiennes, № 177. Paris, 1971, p. 290–291.
312. Vita s. Danielis
Stylitae // Delehaye H. Les saints stylites. Bruxelles,
1962, p. 91–92.
313. AASS Januarii,
vol. I. Bruxelles, 1863, p. 552.
314. Vita s. Eutychii
Patriarchae // PG 86 (1860), pt. 2, col. 2384.
315. Vita s. Alypii
Stylitae // Delehaye H. Les saints stylites. Bruxelles,
1962, p. 168.
316. Euphemie de
Chalcedoine /ed. F. Halkin. Bruxelles, 1965, p. 88.
317. AuzepyM.-F.Vie
de St. Ethienne. Aldershot, 1997, p. 171–173.
318. Nicetae
Paphlagonis. Vita s. Ignatii Archiepiscopi // PG 105
(1862), col. 560.
319. Bees N. Vie de
st. Theoclete // Византийское Обозрение. 1916, т.
2, № 1, с. 52.
320. Вилинский С. Г. Житие св. Василия
Новаго. Ч. 2. Одесса, 1911, с. 340; ср. с. 139, 279.
321. Maтepiaли з icтopii
вiзантiйско-слов’аньскоi лiтератури та мови. Пiдготовив
до друку проф. А. В. Ристенко. Одеса, 1928, с. 185.
322. Ο βίοζ Νίκονος τοῦ Μετανοεῖτε //
Νέος Ἐλληνομνήμων. 1906. Т. 3. Σ. 183.
323. Βίος καὶ θαύματα τοῦ ὁσίου πατρός
ἡμῶν Ἐυστρατίου // Παπαδοπουλου Κεραμέως Α. Ἀνάλεκτα
Ἱεροσολυμιτικῆς Σταχυολογίας, т. 4. СПб,, 1897, с.
393–394. На латинском Западе практика благочестивых
расчленений начинается позднее, чем в Византии, – с 1000
г. (Angenendt A. Reliquien. I.
Abendland // Lexikon des Mittelalters. 1994. Bd. 7,
fasc. 4, col. 702).
324. Vita s. Lazari
Galeisiotae // AASS Novembris. Vol. III. Bruxelles,
1912, p. 522 A.
325. AASS Martii, Vol. II. Bruxelles, 1885, р. 383.
326. Никитин П. Сказание о 42 аморийских
мучениках// Записки Имп. АН. 1905.
VIII серия. Т.
7. № 2, с. 21.
327. Там же,с. 35.
328. Konzilas
Е., Halkin F. Deux vies de s. Maxime
le Kausokalube // Analecta Bollandiana 54 (1936), p.
106.
329. Cm.: Angenendt
A. Corpus incorruptum. Eine Leitidee der
mittelalterlichen Reliquienverehrung // Saeculum. 42 (1991). Vol..
330. AASS Novembris,
vol. IV. Bruxelles, 1925. Cap. 20, p. 230.
331. Ibid., p. 230–231.
332. Holy Women of Byzantium. Ten Saints’ Lives in English Translation. Ed.
A.-M. Talbot. Washington, 1996, p. 113, n. 83.
333. Kaplan М. De
la dupouille... р. 25.
334. Ibid., р. 21–22.
335. Так, св. Трифилл Левкосийский, не
сподобившись мученичества при жизни, позаботился о
посмертном венце – мусульмане отрубили голову его
нетленному телу (AASS Junii, vol. III. Bruxelles, 1867,
p. 177E).
|